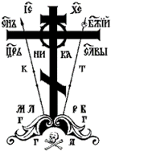ПРИХОД И ПРИХОЖАНЕ (вторая часть)
Михаил Юрьевич Лермонтов и его друзья
Много замечательных людей жило в окрестностях Поварской улицы и бывало в храме Симеона Столпника… Как мы помним, дом купца Чернова на Малой Молчановке дважды арендовал Сергей Тимофеевич Аксаков. Последний раз Аксаковы жили здесь с 1827 года по 1 июня 1829 года, а ровно через два месяца после их отъезда — 1 августа 1829 года — здесь поселилась Елизавета Алексеевна Арсеньева со своим 15-летним внуком Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. В этом деревянном доме Лермонтов прожил три года — с 1829 года по 1832 год, вплоть до отъезда в Петербург. Новые архивные свидетельства о московском периоде жизни юного поэта и домах, связанных с его именем, опубликовала в своем интересном исследовании Светлана Андреевна Бойко. В ее работе приводится важный документ — договор о найме дома, который заключила Елизавета Алексеевна с «купецкой женой вдовой» Феклой Ивановной Черновой (муж ее, купец 1-ой гильдии Петр Михайлович Чернов, упоминаемый в церковной именной ведомости за 1816 год, к этому времени уже умер). Документ для нас особенно интересен, во-первых, потому, что в нем содержится подробное описание дома, стоявшего совсем рядом с храмом Симеона Столпника и относящегося к его приходу, а во-вторых, потому, что дом этот связан с историей жизни двух замечательных людей, оставивших столь заметный след в нашей культуре. Вот этот договор:
«1-го августа 1829 года я, нижеподписавшаяся порудчица Елисавета Алексеевна Арсеньева, заключила сие условие с опекуншею московскою купеческой женою вдовою Феклой Ивановной Черновой в том, что наняла у нее деревянный ее дом, стоящей Арбатской части 1 квартала под № 41 на Малой Поварской улице с принадлежностями к оному: особым двором, колодцем, кухнею и людской избой, конюшнею, каретным сараем и в оном ледник, анбаром для хлеба сроком с вышеписанного числа по 10 июня будущего 1830 года ценою 3 тысячи рублей монетою и обязуюсь:
1-е) деньги за половину заплатить впредь;
2-е) беречь от пожарного случая, но естли, чего боже избави, последует от небрежения моего или при мне живущих все строения сгорят, то, не доводя ни до каких присутственных мест, заплатить ей, Черновой, двадцать тысяч рублей ассигнациями. Естли же како часть дома сгорит, то все погибшее обязуюсь исправить своим коштом. Но ежели пожар произойдет от грозы, или соседей, или труб, за сие не ответствую;
3-е) в доме и на дворе наблюдать чистоту и опрятность. По срок сдать в совершенной исправности, как то было принято;
4-е) платеж за чистку труб и нужного места;
5-е) о живущих при мне и приезжающих ко мне давать знать полиции. Мебель, замки, задвижки и стекло принять по особо учиненной за предписанием моим описи. По срок сдать в том же самом виде, как было принято. Условия сии содержать свято и ненарушимо и подписанием моим и по записи у маклера иметь дома хозяйке.
К сему условию гвардии порудчица Елисавета Алексеевна Арсеньева руку приложила.
К сей записке московская купеческая жена вдова руку приложила и условия заключила Фекла Чернова.
Маклер Никифор Бастрыгин.
Добросовестной Терехов».
Этот договор возобновлялся ежегодно, т.е. еще дважды, с теми же условиями. Последний был заключен до 10 июня 1832 года.
Хоть и находился дом на Малой Молчановке, рядом с храмом Симеона Столпника, но ни Елизавета Алексеевна Арсеньева, ни ее внук не были его прихожанами. Биографы поэта обнаружили их имена в исповедальных ведомостях другой церкви, стоявшей неподалеку, — Ржевской Божьей Матери, что на Поварской (в 1930-е годы она была снесена, а на ее месте построено здание Верховного суда). Дело в том, что, приехав летом 1827 года из Тархан в Москву (внуку нужно было учиться), Е.А. Арсеньева сначала поселилась на Поварской улице в доме гвардии прапорщицы Екатерины Яковлевны Костомаровой, у которой она снимала деревянный флигель до августа 1829 года. Когда же к ним в Москву приехал троюродный брат Лермонтова Аким Шан-Гирей, во флигеле стало тесно, и бабушка переезжает на Малую Молчановку. Живя у Костомаровой, Елизавета Алексеевна с внуком ходила в церковь Ржевской Божьей Матери, к приходу которой, видимо, относился дом на Поварской. Перебравшись в соседний приход, она, скорее всего, по привычке, продолжала ходить в прежний храм.
Целых пять лет прожил Лермонтов в Арбатской части Москвы. Это были годы его учебы в Московском Университете (сначала в качестве ученика Благородного пансиона, а затем — студента нравственно-политического отделения), годы становления его как поэта. Определяя этот период как начало своего творческого пути, Лермонтов писал: «Я начал марать стихи в 1828 году».
В окрестностях Поварской проживало много родственников и друзей М.Ю. Лермонтова. Имена некоторых из них мы обнаруживаем в приходских книгах храма Симеона Столпника. Назовем прежде всего двух наиболее близких университетских товарищей поэта — Николая Поливанова и Андрея Закревского. bande joyeuse — так называла С.А. Бахметьева, родственница и подруга юности Лермонтова, компанию его приятелей (Н.И. Поливанова, А.Д. Закревского, В.А. и Н.С. Шеншиных, А.А. Лопухина). Свое студенческое окружение, увлечения и манеру общения «веселой шайки» поэт изобразил в четвертой сцене своей юношеской пьесы «Странный человек» (она была написана им в 1831 году в Москве). Позднее «университетской вольнице» будут посвящены следующие строчки в неоконченной поэме «Сашка» (1835-1839):
Святое место! помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры:
О Боге, о вселенной и о том,
Как пить: ром с чаем или голый ром;
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висящие клочками.
Николай Иванович Поливанов, ближайший товарищ Лермонтова по Университету, впоследствии учился вместе с поэтом в Школе гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров, где у него было прозвище «Лафа» (под этим прозвищем он упоминается и в юнкерских поэмах Лермонтова). По окончании школы Лермонтов был отправлен в лейб-гвардии гусарский полк, а Поливанов — в уланский. Но и после юнкерского училища, как вспоминал со слов самого Н.И. Поливанова его сын, «они постоянно между собою виделись и друг от друга никогда не имели никакой тайны».
Дом Поливановых находился на Большой Молчановке и относился к приходу Церкви Симеона Столпника (отец Николая Поливанова — действительный статский советник Иван Петрович Поливанов — упоминается в храмовой именной ведомости за 1816 год). Комната Николая, где часто бывал Лермонтов, находилась в двухэтажном каменном флигеле. Именно здесь в марте 1831 года было написано одно из наиболее известных юношеских стихотворений поэта, начинавшееся строками:
Послушай! вспомни обо мне,
Когда, законом осужденный,
В чужой я буду стороне —
Изгнанник мрачный и презренный…
В автографе стихотворения Николаем Поливановым была сделана приписка, позволяющая судить о дате и обстоятельствах написания этого произведения: «23-го марта 1831 г. Москва. Михайла Юрьевич Лермонтов написал эти строки в моей комнате во флигеле нашего дома на Молчановке, ночью; когда вследствие какой-то университетской шалости он ожидал строгого наказания. Н. Поливанов». «Университетская шалость», за которую Лермонтов «ожидал строгого наказания», — это знаменитая «маловская история». Профессора уголовного права М.Я. Малова студенты дружно ненавидели за его грубость, глупость и необразованность и однажды изгнали из аудитории. В «акции неповиновения» принимал участие также М.Ю. Лермонтов. Позднее в поэме «Сашка» он вспомнит об этом событии:
... Профессор длинный
Напрасно входит, кланяется чинно, —
Он книгу взял, раскрыл, прочел… шумят;
Уходит, — втрое хуже. Сущий ад!..
Поливановский дом до нашего времени не сохранился, на его месте находится теперь здание Дома книги. Николай Иванович Поливанов на 33 года пережил своего друга. Дослужившись до полковника, он вышел в отставку, умер в 1874 году в Казани.
Имя другого университетского приятеля Лермонтова — Андрей Закревский. Как отмечают исследователи, среди московских друзей поэта он выделялся «самым веселым и озорным характером». Рано лишившись отца и матери, он жил в доме своего опекуна полковника в отставке Порфирия Матвеевича Окулова. Порфирий Матвеевич был близким другом отца Андрея — генерал-майора Дмитрия Андреевича Закревского. Зная высокие моральные достоинства своего друга, именно к нему обратился незадолго до смерти Дмитрий Андреевич с просьбой позаботиться о детях-сиротах.
Полковник Окулов, выполняя волю умершего товарища, берет на себя попечение о детях: сестер Закревских он определяет в Смольный институт, а Андрея забирает к себе в Москву «для воспитания и образования науками». Как отмечают исследователи, Порфирий Матвеевич с честью выполнил возложенную на него обязанность. Ему удалось поправить расстроенные дела по имению покойного друга, уплатить все долги и даже приумножить состояние Закревских.
Дом Окулова, в котором жил Андрей Закревский относился к приходу церкви Симеона Столпника и находился на углу Поварской и Чашникова переулка. (В настоящее время не сохранились ни переулок, ни дом Окулова, на этом месте сейчас находится здание школы.) Имена Порфирия Матвеевича Окулова и студента Андрея Закревского значатся в храмовых исповедальных ведомостях, в списках прихожан за 1827-1832 годы.
М.Ю. Лермонтов очень любил озорника и ерника Андрея Закревского, ему он посвятил свое стихотворение «А. Д. З.», написанное в 1831 году, в котором шутливо восклицает: «И кто сказать бы смел, что черт тебе не брат?» В юношеской пьесе «Странный человек» прототипом студента Заруцкого явился Андрей Закревский. Именно этот персонаж произносит замечательный патриотический монолог о войне 1812 года («А разве мы не доказали в 12 году, что мы русские? Такого примера не было от начала мира!..») И именно ему «доверяет» автор прочитать стихотворение-исповедь главного героя Арбенина (по мнению исследователей, образ Арбенина во многом автобиографичен):
Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала; я любил
Все обольщенья света, но не свет,
В котором я мгновеньями лишь жил.
И те мгновенья были мук полны;
И населял таинственные сны
Я этими мгновеньями, но сон,
Как мир, не мог быть ими омрачен!
В 1832 году А.Д. Закревский закончил словесное отделение Московского университета и начал служить переводчиком в Московском архиве коллегии иностранных дел. Страстный поклонник поэзии Лермонтова, он и сам занимался литературной деятельностью. В Москве получила широкое распространение его анонимная книжка-памфлет о Царе-Горохе, вышедшая в 1834 году: «Подарок ученым на MDCCCXXXIV год. Ergo мотай себе на ус. О царе Горохе, когда царствовал государь царь Горох, где он царствовал и как царь Горох перешел, в преданиях народов, до отдельного потомства». Работа с архивными материалами позволила С.А. Бойко проследить дальнейшую судьбу Андрея Дмитриевича Закревского: «В феврале 1836 года Закревский уволился от службы вовсе и уехал в Париж. Там он жил очень расточительно. Вернувшись в Россию, поселился в своем имении в Саратовской губернии, где слыл человеком светским, замечательным, был постоянным и талантливым участником домашних спектаклей. Но вскоре все забросил, занялся только хозяйством и мистицизмом.
Пересекались ли пути Лермонтова с Закревским после разлуки летом 1832 года, неизвестно, хотя не исключено, что они могли встретиться, когда Лермонтов посещал Лопухина в Москве во время своего первого отпуска зимой 1835-1836 годов, тем более, что Лопухин и Закревский были оба служителями архива коллегии иностранных дел».
Итак, летом 1832 года закончился очень важный — московский — период жизни М.Ю. Лермонтова. Здесь он впервые ощутил себя поэтом; здесь испытал чувство глубокой неразделенной любви, оказавшей влияние на всю его последующую жизнь и творчество; здесь юного поэта окружали нежно любящие и хорошо понимавшие его друзья, привязанность к которым он навсегда сохранил в своей душе. Уже приехав в Петербург, в одном из писем к Марии Александровне Лопухиной поэт сам подвел итог прошедшему периоду: «Москва есть и всегда будет моя родина. — Я в ней родился, в ней много страдал, в ней был чрезмерно счастлив. Лучше бы этих трех вещей не было … но что делать!»
Платон Богданович Огарев
В те же годы, что и М.Ю. Лермонтов, учились в Московском Университете еще два студента, которым будет суждено оставить заметный след в истории России. Это Александр Иванович Герцен, писатель-демократ, издатель революционного антиправительственного журнала «Колокол» и его друг и соратник по революционной деятельности, поэт Николай Платонович Огарев. Неизвестно, были ли знакомы Герцен и Огарев с Лермонтовым, но зато сохранились свидетельства о том, что с ними был близок Андрей Закревский. Все они, как и Лермонтов, принимали активное участие в «маловской истории», она найдет отражение на страницах знаменитого романа-воспоминания А.И. Герцена «Былое и думы».
В течение нескольких лет — до середины 1820-х годов — Огаревы были прихожанами церкви Симеона Столпника. В храмовой именной ведомости за 1816 год среди прихожан мы встречаем имя Платона Богданович Огарева, отца будущего поэта.
В «Моей исповеди», незаконченном произведении, посвященном А.И. Герцену, Николай Петрович Огарев так писал о своих родителях:
«Что именно во мне материнского — не могу сказать. Мать умерла — мне было полтора года; я о ней ничего не знаю. Те, которые мне про нее говорили, могли только сказать, о доброжелательстве в светских отношениях, о хорошем обращении с людьми и т.п., но ни о складе ее ума, ни о страстности или нежности сердца, ни о слабости или твердости характера ничего не могли сказать, потому что все были люди пошлые, исключая ее единственного друга — Лизаветы Евгеньевны Кашкиной, которая мне говорила только, как много она любила мою мать; затем, считая меня еще слишком ребенком, ничего больше не рассказывала. Кошкина умерла, когда мне было лет тринадцать или четырнадцать».
Чувство сыновней любви к рано ушедшей матери поэт пронес через всю жизнь. В одном из стихотворений («Т.Н. Грановскому») он писал:
Из всех же тех, что смертью взяты,
Я только матери моей
Глубоко чувствую утрату,
Хотя не знал ее, но в ней
Привык я видеть, будто свыше
Мне кто-то смотрит жизни путь,
И как-то легче дышит грудь,
И скорби делаются тише.
Рассказывая о Платоне Богдановиче, которого поэт знал больше и которого очень любил, несмотря на существовавшее между ними отчуждение, Н.П. Огарев дает яркий портрет отца как представителя определенного сословия, изображает его в контексте эпохи. Здесь художник и мыслитель берут верх над сыновними чувствами: многие особенности характера отца, его семейные привычки писатель связывает с его общественным статусом, с социальным опытом поколения, к которому принадлежал Платон Богданович Огарев.
«Отец мой был неглуп, очень добр, ленив, любитель прекрасного пола, но и тут соблюдал умеренность, которая как-то у него смешивалась с уважением светских приличий. Несмотря на мягкость, он был деспотом в семье; детская веселость смолкала при его появлении. Он нам говорил «ты», мы ему говорили «вы». Может, семейный деспотизм просто в нравах людей его века в России. Может, он у них является в той же мере, в какой они в другую сторону на службе перед начальством, перед лицом, которое было больше их барин, подчинялись подобострастно, не из хитрости, не из видов, а как-то религиозно, точно священнодействовали ради какой-то безусловной истины. Подчиняясь удушливой атмосфере сверху, они думали, что надо вносить духоту в дом свой, и в доме царствовала тяжеловесная скука, а жизнь развивалась украдкой. Внешняя покорность, внутренний бунт и утайка мысли, чувства, поступка — вот путь, по которому прошло детство, отрочество, даже юность. Отец мой любил меня искренне, и я его тоже, но он не простил бы мне слова искреннего, и я молчал и скрывался. У отца моего не было потребности высказаться, у меня выросла действительная скрытность».
Отец и сын Огаревы были привязаны друг к другу и бесконечно любили друг друга. Но в то же время они были и бесконечно далеки друг от друга: их, принадлежавших к разным поколениям, разделяла уже целая эпоха. Сын понимал это и глубоко страдал. В 1838 году, потрясенный смертью отца, он пишет стихотворение «Среди могил я в час ночной…». В нем поэт стремился передать смятение человеческой души перед вечной загадкой жизни и смерти. В строчках, посвященных отцу, звучит боль утраты:
А я любил его. Меж мной
И им таинственной рукой
Любви завязан узел был.
Отец! О, — я тебя любил.
Скажи ж, мертвец, скажи же мне,
Что есть душа? И в той стране
Живешь ли ты? Нашел ли там
Ты мать мою? Пришлось ли вам
Обняться снова и любить?
И вечно ль будете вы жить?
Чувство горькой вины перед ушедшим отцом передано поэтом в другом стихотворении, написанном в июне 1839 года — «Отцу»:
Я виноват перед тобой:
Я с стариком скучал, бывало,
Подчас роптал на жребий свой…
Прости меня, на ропот мой
Набрось забвенья покрывало.
…………………………………
Скажи: ты чувствуешь, что я
Здесь на земле грущу, тоскую,
Всё помню, всё люблю тебя,
Что падала слеза моя
Не раз на урну гробовую.
До семи лет Н.П. Огарев жил в родовом имении отца Старое Акшено. В 1820 года его перевозят в Москву: мальчику надо было учиться. Дом, где жили Огаревы в Москве, находился на Малой Никитской и принадлежал полицмейстеру Белкину. В «Моей исповеди» Николай Платонович передает свои детские впечатления о московском доме и его владельце: «Когда мне было лет семь, мы жили в Москве на Малой Никитской, в доме Белкина, толстейшего из всех толстых полицмейстеров, которого я любил за то, что у него был мундир, и два казака за ним ездили. Но этому пристрастию к военному делу у меня суждено было погибнуть».
Остались в памяти поэта и окрестности, где проходили его детские игры: «Летом, в очень хорошую погоду Булатов [Иван Михайлович Булатов был воспитателем, или дядькой, как тогда говорили, маленького Огарева — прим. ред.] водил меня играть на пустырь, который мне казался чудеснейшим лугом, или в сад, к попу, или к коновалу; всё это не более двухсот шагов от дому. Да, виноват, лучший приятель в детстве, летом, был Голестенов, живший против нашего дома; у Голестеновых был сад, и Булатов водил меня туда играть с маленьким, но очень толстым Голестеновым».
Вскоре Огаревы переезжают в другое место, неподалеку. Об этом событии Николай Платонович вспоминал: «Белкинский дом оставили; отец Купил дом Бантыш-Каменского у Никитских ворот». Этот дом был приписан уже к другому приходу — храма Вознесения. Когда вскоре, в 1826 году, умерла бабушка писателя, мать Платона Богдановича, то ее отпевали уже в этой церкви: «Помню, — писал Н.П. Огарев в «Моей исповеди», — как я шел за гробом в Донской монастырь, как можжевельник был разбросан по всей рыхло-снежной дороге от Никитских ворот до приходской церкви Вознесенья, а от нее до монастыря».
Николай Васильевич Гоголь и Толстые
Недалеко от церкви Симеона Столпника находится знаменитый дом. Это дом по Никитскому бульвару, 7-А. Здесь, в доме Александра Петровича Толстого, жил с 1848 года по 1852 год великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь.
Граф Александр Петрович Толстой, в доме которого перед смертью жил Гоголь, был чрезвычайно набожный человек. В 1856 году он станет обер-прокурором Синода. Граф являлся постоянным прихожанином церкви Симеона Столпника. Имя Александра Петровича и его жены Анны Георгиевны Толстой встречается в храмовых ведомостях, относящихся к 1840-1850 годам.
Граф Александр Петрович, по свидетельству современников, был добрейшей души человек. Знаменитая красавица пушкинских времен Александра Осиповна Смирнова-Россет, хорошо знавшая семью Толстых и дружившая с Н.В. Гоголем, называла графа «святым человеком». Друзья в шутку прозвали его Еремой за то, что он, как пишет в своих воспоминаниях А.О. Смирнова-Россет, «огорчался безнравственностью и пьянством народа и развратом модной молодежи». Александр Петрович, отмечает мемуаристка, «бегло читал и говорил по-гречески; акафисты и каноны приводили его в восторг; они писаны стихами, и эта поэзия ни с чем не может сравниться». Известный славянофил, публицист и философ Н.П. Гиляров-Платонов писал об Александре Петровиче Толстом после назначения его обер-прокурором Синода: «Трудно найти человека, более преданного Церкви, более готового на всякое улучшение и в то же время менее склонного проводить какие-нибудь свои личные расчеты в управлении столь важною частию <…> Он принадлежит к разряду тех людей, которых я не умею иначе охарактеризовать, как назвать их оптинскими христианами. Это люди, глубоко уважающие духовную жизнь, желающие видеть в духовенстве руководителей к духовной высоте жизни, жаждущие, чтобы православное христианство в России было осуществлением того, что читаем в Исааке Сирине, Варсонофии и проч. И он сам в своей жизни именно таков. Никто менее не способен мириться с казенностью, с формализмом и с мирской суетой в деле Христианства <…> К таким людям принадлежал покойный Гоголь...»
Жена графа Толстого Анна Георгиевна была благочестивой и верующей женщиной. С уважением и восхищением пишет о ней в своих воспоминаниях «Хранилище моей памяти» известный духовный писатель XIX века М.В. Толстой:
«Графиня Анна Георгиевна, дочь князя Георгия Александровича Грузинского, правнука Вахтанга — законодателя, царя Грузии. Она всю жизнь сохраняла в душе глубокую веру, проникавшую во всю ее деятельность. Молодость провела она в девстве и уже в зрелых годах сочеталась браком с генерал-адъютантом графом Александром Петровичем Толстым, обер-прокурором Святейшего Синода. Стоя так близко к центру духовной власти, графиня прилагала иногда свое опытное и умное участие, направляя деятельность мужа на благо Церкви, духовной школы и духовенства. Особенно она ценила ученое монашество, считая его образцом истинной христианской жизни и рассадником духовного просвещения. Прекрасно образованная, она, конечно, хорошо была знакома и со светскою литературою, но всегда предпочитала религиозное чтение — Евангелие и проповеди. <…> С любовию относилась она ко всем обрядам церковным, любила благоговейное служение и заботилась о благолепии храмов Божиих, нескудно жертвуя на украшение их всем, кто бы к ней ни обращался».
Анна Георгиевна отличалась необыкновенной благотворительностью. Очень много сделала она для духовенства, основала приют для престарелых людей духовного звания, жертвовала на разные богоугодные заведения. Любой мог прийти к ней с просьбой о помощи, и она никому не отказывала. При этом ее отличала необычайная скромность: «все благодеяния она делала по одной великой любви своей к человечеству, и притом старалась делать тайно, так что одна рука ее, по заповеди Спасителя, не знала, что делала другая». После смерти графини Толстой, по распоряжению епархиального начальства, во всех московских храмах служили по усопшей сорокадневное поминовение — в знак благодарности за ее благотворительную деятельность.
Дом Толстых на Никитском бульваре сохранился до наших дней. Теперь на нем висит мемориальная табличка, сообщающая о том, что именно здесь провел последние годы жизни великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь. Этот дом имеет особое значение для истории нашей культуры. Здесь бывали А.Н. Островский, И.С. Тургенев, М.С. Щепкин и другие выдающиеся люди. Здесь Гоголь читал труппе Малого театра свою комедию «Ревизор». Здесь он сжёг вторую часть «Мёртвых душ» и спустя девять дней скончался.
Вот отрывки из письма В.А. Жуковского своему другу П.А. Плетневу о смерти Гоголя, которое цитирует А.О. Смирнова-Россет в своих воспоминаниях о Гоголе:
«Любезнейший Петр Александрович, какою вестью вы меня оглушили, и как она была для меня неожиданна <...> я особенно много думал о Гоголе... и вот его уже нет. Я жалею о нем несказанно особенно для себя. Я потерял в нем одного из самых симпатических участников моей поэтической жизни и чувствую своё сиротство в этом отношении <...> Какое пустое место оставил в этом маленьком мире мой добрый Гоголь. Жалею об нем еще для его начатых и недоконченных работ. Для нашей литературы — он потеря незаменимая. Но жалеть ли о нем для него? Его болезненная жизнь была и нравственным мучением. Настоящее его призвание было монашеское. Я уверен, что ежели бы он не начал свои «Мертвые души», которых окончание лежало на его совести и все ему не давалось, то он давно бы был монахом и был бы успокоен совершенно, вступил в эту атмосферу, в которой душа его дышала бы свободно и легко. Его творчество по особенному свойству его гения, в котором глубокая меланхолия соединилась с резкой иронией, было в противоречии с его монашеским призванием и ссорило его с самим собой. По крайней мере, так это мне кажется из тех обстоятельств, предшествовавших его смерти, которые вы мне сообщили. Гоголь, стоящий четыре дня на коленях, окруженный образами, говорящий тем, которые о нем заботились: «Оставьте меня, мне хорошо», — как это трогательно! Нет, не вижу суеверия. Это набожность человека, который с покорностью держится установлений православной церкви. Что возмутило эту страждущую пущу в последние минуты, я не знаю, но он молился, чтобы успокоить себя, как молились святые отцы нашей церкви, и, конечно, в эти минуты ему было хорошо, как он сам говорил. Путь, которым он вышел из жизни, был самый успокоительный и утешительный для души его. «Оставьте меня, мне хорошо». Так никому по себе неизвестно, что хорошо другому по свойству, и эта молитва на коленях четыре дня уже есть нечто вселяющее глубокое благоговение, так бы он умер, если бы, послушавшись своего естественного призвания, провел жизнь в монашеской келье».
Гоголь был одной из трагических- фигур русской литературы. Его глубокая религиозность постоянно как бы вступала в прагматический спор с его светскими литературными занятиями. Искрометные, блистательные сатирические комедии «Ревизор», «Женитьба» и святоотеческая литература — казалось бы, как это может совместиться? Но странным образом совмещалось и служило увеличением напряжения религиозных исканий. В один из своих приездов в Оптину пустынь он прочитал здесь рукописную книгу св. Исаака Сирина (с которой в 1854 году старцем Макарием было сделано печатное издание), ставшую для него откровением. На полях II главы «Мертвых душ» Гоголь против того места, где речь идет о «прирожденных страстях», набросал карандашом: «Это я писал в «прелести», это вздор — прирожденные страсти — зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены на искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о высоком значении прирожденных страстей — теперь, когда я стал умнее, глубоко сожалею о «гнилых словах», здесь написанных. Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении прирожденных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение «Мертвых душ». Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инока. Здравая психология, и не кривое, а прямое понимание души встречаем у подвижников-отшельников».
Что же происходило с Гоголем в последние годы, а особенно месяцы и дни его жизни? Мучения, религиозные поиски и еще раз мучения. Он был сильно потрясен несправедливыми упреками по поводу его книги «Выбранные места из переписки с друзьями». В этой книге Гоголь пытался укрепить себя в вере, познать всю глубину православной церкви. Вот как блестяще написано об этом Гоголем в письме к графу А.П. Толстому: «У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме, и сам хозяин не знает, где лежит она. Эта церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только со времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта церковь, которая вся со своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с Неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословье, званье и должность войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала, — и эта Церковь нами не знаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!»
На Гоголя за эту книгу страшно напал Белинский. Вот как он писал: «По-вашему, русский народ — самый религиозный в мире: ложь! <…> Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности…» Убийственные слова! Но что взять с Белинского? Он был безнадежным атеистом сам, а переносил свой атеизм на весь народ. Особенно глубоко огорчили Гоголя отзывы о книге духовных лиц. Один из авторитетнейших духовных писателей XIX века святитель Игнатий Брянчанинов, канонизированный позднее Русской Православной Церковью на Поместном Соборе 1988 года, отзывался о книге так: «…она издает из себя и свет и тьму. Религиозные его понятия неопределенны, движутся по направлению сердечного вдохновения неясного, безотчетливого, душевного, а не духовного». Отзыв архимандрита больно задел Гоголя.
В самое последнее время перед смертью духовные мучения и сомнения Гоголя резко усилились. Что с ним было? Мы можем только гадать. Страх… Страх перед жизнью и страх перед смертью, причем страх умереть без покаяния… Мучительны были сомнения Гоголя в правильности выбранного им литературного пути. А вдруг все его писания есть только прелесть и ничего более?.. Сильно повлиял на Гоголя ржевский священник отец Матвей Константиновский. Он тоже резко отзывался о «Переписке». Гоголь в испуге ответил ему: «Не могу скрыть от вас, что меня очень испугали слова Ваши, что книга моя должна произвести вредное действие, и я дам за нее ответ Богу». Можно сказать так: последние трагические духовные и религиозные муки Гоголя — это поиски ответа Бога. Отец Матвей, кстати, неоднократно убеждал Гоголя в необходимости бросить литературные занятия. Существует мнение, что именно он убедил Гоголя сжечь второй том «Мертвых душ». В Москве среди друзей и недругов Гоголя распространилось убеждение, что он помешался. Ах, в который раз подтвердились слова апостола Павла: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно».
Отец Матвей, кстати, был одним из немногих, кто понимал смысл предсмертной трагедии Гоголя. Вот как он говорил об этом: «С ним повторилось обыкновенное явление нашей русской жизни. Наша русская жизнь немало имеет примеров того, что сильные натуры, наскучивши суетой мирской или находя себя неспособными к прежней широкой деятельности, покидали все и уходили в монастырь искать внутреннего умиротворения и очищения... Да, очевидно, так и было с Гоголем. Он прежде говорил, что ему «нужен душевный монастырь», а перед смертью он еще сильнее пожелал его».
* * *
Как мы уже заметили, Александр Петрович и Анна Георгиевна Толстые были прихожанами храма Симеона Столпника. Они, по всей видимости, привели сюда и Гоголя. И хотя в истории не осталось точных свидетельств, но можно предполагать , что в эту церковь Гоголь ходил молиться. Незадолго до смерти он несколько раз исповедовался и причащался в храме Симеона Столпника. Тайна исповеди навечно остается тайной. Но вот загадочный факт: до нас не пошло даже имя священника, который служил в храме в 1852 году, в год смерти Гоголя. Раньше — есть, за поздние годы остались в церковных книгах имена священнослужителей. А за 1852 год — нет.
О глубоком духовном кризисе Гоголя свидетельствуют его последние предсмертные записи: «Господи, дай мне помнить вечно мое... мое неведение, мое незнание, недостаток образования моего, да не выведу ни о ком и ни о чем неосмотрительного мнения. (Никого не судить, и сторониться выводить мнение. Да помню ежеми… Продолжение »